Худрук РАМТа о многогранности человека и почему спектакли всегда нужно ставить для себя

Художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин/ Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Бородин руководит Российским академическим молодежным театром (РАМТ) более 40 лет. За эти годы он смог построить настоящий театр-дом, вырастить именитых учеников, а также воспитать не одно зрительское поколение. Спектакли Бородина открыли в истории РАМТа новую эру – они говорили с молодежью о насущных проблемах современным языком и открывали неизвестные имена драматургов.
Худрук РАМТа известен любовью к «большой прозе» и романным форматам. Режиссура Бородина благородна, монументальна и деликатна. Радикальных приемов он не признает. При этом говорит со зрителем на самые волнующие и сложные темы. «Нюрнберг» 2014 г. – спектакль о судебных процессах над фашистами, «Душа моя Павел» 2022 г. – о проблемах выбора в юности, «Леопольдштадт» 2023 г. – о национальной самоидентификации. Новая постановка «Усадьба Ланиных» поднимает философские, но куда более личные вопросы – как жить жизнь, когда рушится мир.
В интервью «Ведомостям» Алексей Бородин рассказал о том, почему в труппе важно поддерживать атмосферу дружбы всех со всеми, а со зрителем нужно говорить на равных.
«Жить надо ради самой жизни, что бы ни происходило вокруг»
– Как и почему у вас возник замысел поставить пьесу «Усадьба Ланиных» Бориса Зайцева, чье имя сегодня если не забыто, то редко вспоминаемо?
– Да, действительно, был огромный период времени, когда Зайцева не печатали. А ведь это грандиозная проза, написанная замечательным русским языком. Зайцев был высокодуховный, религиозный человек, и в его текстах всегда присутствует что-то такое, что невозможно объяснить. Что-то иррациональное, мистическое, и это очень увлекает. Кроме того, «Усадьба Ланиных» для меня лично навсегда связана с историей Театра Вахтангова. Первая режиссерская работа Евгения Вахтангова была по этой пьесе, и, с одной стороны, публика не приняла постановку, провал был абсолютный, а с другой – благодаря ей и родилось первое актерское содружество под руководством Вахтангова. Часть артистов, занятых в той «Усадьбе», стали костяком будущего театра.
– Зайцева часто сравнивают с Чеховым. Вы согласны с таким сравнением?
– Мне кажется, важно помнить, что 1903 год, когда был написан «Вишневый сад», и 1911-й, когда Зайцев написал «Усадьбу Ланиных», – это совсем разное время. В 1911 г. тревоги в воздухе было гораздо больше, это давало дополнительные смыслы.
– Я для себя сформулировал это так: жить надо ради самой жизни, что бы ни происходило вокруг. «Усадьба Ланиных» отвечала на вопросы времени. И отвечает сейчас. Поскольку мы с вами тоже оказались в беспокойном, смутном периоде, когда забывается, что жизнь – это здесь и сейчас, а не в далеком будущем и не в прекрасном прошлом.
– Когда вы впервые прочитали этот текст, о чем вы подумали? Что показалось близким?
– Я собирался прочесть этот текст много лет, никак не получалось. Но когда-то же надо реализовать то, что наметил. (Улыбается.) И в один прекрасный день я попросил найти мне восьмитомник Зайцева. Когда я начал читать «Усадьбу Ланиных», первым ощущением была даже не мысль, а чувство какого-то неопределенного беспокойства и тревоги. Я как будто бы попал в тревожный мир, как в западню. Для меня совершенно неведомые ощущения – вроде бы чеховские мотивы, тургеневские, а общее впечатление совсем иное. Борис Зайцев особенный писатель, необыкновенный.
– Как долго и как именно вы работали с этим необыкновенным текстом, прежде чем отдать артистам инсценировку?
– Не так много. В спектакле звучит буквально вся пьеса, только немного сокращенная. Там такой дивный язык, столько чувственности, нежности, страсти в каждом слове, каждой запятой. Удовольствие читать, а потом и слышать со сцены.
– Я, когда смотрела на сцену, чувствовала не только страстные мотивы, но и мистическую подоплеку происходящего, о которой вы говорили. Тревогу и угрозу, нависшую над героями. Как вы сами относитесь к такого рода намекам Вселенной, когда людям даются знаки, но они их игнорируют?
– В этих «намеках Вселенной» вся суть нашего бытия. Мне кажется, если ты поймешь, что жизнь – это тайна, ты начнешь жить по-настоящему. И повседневность станет не повседневностью, а невероятием. Человек, к сожалению, так устроен, что не осознает себя как отдельную личность. И других не осознает. Все хочет всех выстроить в очередь или подвести под общий знаменатель. «Что тот солдат, что этот». Но человек – сложное, противоречивое и, в конечном счете, непознаваемое существо.
Когда-то по телевизору я видел передачу про американского ученого, который говорил, что в понедельник, среду, пятницу он думает одно, а во вторник, четверг и субботу – другое. А в воскресенье отдыхает. Мне это страшно понравилось! На самом деле мы ничего о себе и мире не знаем точно. И если держать эту мысль в голове, жизнь перестанет быть механической. Спектаклем «Усадьба Ланиных» мне хотелось сегодняшним зрителям сказать: «Давайте жить эту жизнь как личности, а не как масса».
– Как вам кажется, в чем ошибка Ланиных?
– Никакой ошибки нет. Есть тайна. Ланины жили сверхполной, сверхчувственной жизнью. С противоречиями, запретными страстями и любовными ошибками. Их усадьба – такой вот морок: Ланин как будто бы заманивает гостей к себе в дом, в эту ауру, в которой невозможно жить «просто так». Там обязательно что-нибудь будет взрываться, меняться, гибнуть и воскресать вновь. Перемены ведь всегда с опасностью связаны. Но такая жизнь – это своего рода творчество. Ты никогда не думал, что с тобой может произойти страсть или чудо, а они происходят. Прекрасная тайна. В этом вся суть.
– Вообще, мир человеческих взаимоотношений в спектакле очень подробен. Это спектакль-сага. Чем вас привлекают такие истории в театре? Их на вашем счету немало – и «Берег утопии», и «Леопольдштадт»...
– Наверное, это получается случайно. Когда я заныриваю в такие тексты, вдруг происходит какое-то расширение. Ведь в «Усадьбе Ланиных» действующих лиц, по существу, 10–11 человек. А у нас они превратились в два десятка.
«Мы распахнули окна, устроили сквозняк»
– О чем вы говорили с артистами, прежде чем приступить к репетициям?
– Мы говорили о таинственности жизни, о ее нелинейности, многозначности. И о многогранности человека, некоем броуновском движении в его душе. О человеке как о микрокосмосе. Понимаете, в нас самих заключена вся Вселенная, космос. Макро- в микро-. Это сложно не только осознать, но даже представить. А ведь это известная, открытая учеными мысль: расщепляется все и вся и конца этому нет. Мы – бесконечность.
– Как, держа в уме такие философские задачи, вы строили работу с артистами?
– Для меня главное качество, которое должно быть у артиста, с которым я работаю, – заразительность. А второе – интеллект. Все остальное можно объяснить.
– Есть мнение, что артист не должен быть умен.
– Я так не думаю. Конечно, бывают артисты не интеллектуального склада, но интуитивно умные на сцене. Но интересней работать с людьми, с которыми можно говорить обо всем. И молчать обо всем тоже. Контакт режиссера и каждого артиста очень важен – с него начинается контакт артиста с артистом в спектакле. Если он возникает в работе, то потом переносится на сцену, а после может сопрягаться с контактом в зрительном зале, где собираются незнакомые друг другу люди. Между зрителями тоже устанавливается какая-то связь, они во что-то все вместе вовлекаются. И вот это я называю вольтовой дугой, которая идет со сцены в зал и обратно.
– Она ощущается на многих спектаклях вашего театра. Часто говорят: только рамтовцы умеют так играть большую семью. Как вы думаете, с чем это связано, и всегда ли так было в РАМТе?
– Честно сказать, когда я сюда пришел, то быстро понял, что получил совсем не то, на что рассчитывал. Ведь я помнил этот театр в зените его славы – Эфрос, Ефремов, Розов! А какая была труппа! Тогда у меня было ощущение общности между людьми, почти что единокровия. Но когда пришел сюда работать, самыми потрясающими оказались «старики». Это они поддержали мое стремление вернуть прежнюю атмосферу дружбы всех со всеми. Постепенно подтянулось среднее поколение, мои ровесники. А потом я начал собирать молодежь. В первом наборе был Женя Дворжецкий, Леша Веселкин, Сережа Серов, Лара Моравская. У нас довольно быстро организовалась своя команда. А потом и свой автор – журналист Юрий Щекочихин. Это была большая удача. Для РАМТа его пьеса «Ловушка № 46, рост второй» – как «Чайка» для МХТ. Актер Сережа Серов тогда прозвал Щекочихина «наш Щекочехов». Материал практически документальный, живой, честный, откровенный – о проблемах тинейджеров. То, что нужно было театру в тот момент.
Как я это называю, мы распахнули окна, устроили сквозняк. Дальше – больше. Соединение старшего поколения с младшим происходило постепенно и органично. Позже у меня появился свой курс в ГИТИСе, потом еще и еще один. Оттуда я всегда забирал в театр несколько человек. Всегда смотрел и на ребят других мастеров – кого-то удавалось у них «вытягивать». (Улыбается.) Как-то совпадало, везло. В основном люди, на которых я обращал внимание, соглашались идти за мной. Интуиция меня не подводила. Я давно стал думать, что интуиция – главное в режиссерском деле.
– А отношения со зрителем? Это важно? Вы ставите спектакли для них или для себя?
– Ставишь всегда только для себя. По-другому не может быть, мне кажется. Как только начинаешь что-то учитывать, как только хоть какая-то конъюнктура начинает на тебя влиять, пропадает магия. Поставить хороший спектакль можно, только если произведение тебя царапает внутри. Это не только моих спектаклей касается, а всех, которые идут в репертуаре. У нас открытый театр, в котором ставят много режиссеров – и именитых взрослых, и талантливых молодых, работает все пространство – и чердаки, и лестницы, и даже внутренний дворик. Везде идут спектакли – эдакое броуновское движение. Конечно, есть прекрасные театры, построенные по другому принципу – один Мастер, один метод и все свои, такой театр – исключение, их мало, это театр Додина, театр Женовача. Но в моем понимании авторский театр сегодня – это открытый театр под единым художественным руководством. В этом моя идея. Все эти годы я, как мог, старался ее реализовать.
– И все же иногда вы «уходили» из РАМТа. Ставили на стороне. У вас был опыт в опере, но вы его не продолжили. Почему?
– Да, действительно. Моим первым таким опытом была опера «Отелло» в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Опера для меня загадка. Помню, когда мне предложили ее поставить, я не спал ночь. Но потом понял, что никогда себе не прощу, если откажусь. Это очень интересно, но требует особенного подхода. Я страшно увлекался тем, что с оперными артистами занимался бог знает чем – мастерством драматического актера. (Смеется.) Копался в деталях и нюансах. А потом выяснилось, что нужно действовать крупными мазками. Психологическая прорисовка роли... это все в опере в каком-то смысле тоже, конечно, работает, но не является решающим фактором. Век живи – век учись. Драма мне все-таки ближе.
– В «Усадьбе Ланиных» вы впервые работаете без своего постоянного соавтора, художника Станислава Бенедиктова. Выбор пал на Максима Обрезкова. Почему? Как вы сами оцениваете получившуюся сценографию, которую невозможно игнорировать, настолько она огромна во всех отношениях.
– Когда не стало Стасика... Станислава, для меня это была катастрофа. Мы всю жизнь работали вместе. Это мой соавтор, мы понимали друг друга с полуслова, полузвука. Когда он ушел, я даже решил, что мне вообще не надо никакого художника. Буду сам как-то обходиться. Это было решение, вызванное большой болью... Потом я подумал о Максиме. Конечно, я видел его работы в Театре Вахтангова и они мне очень нравились. И опять все удивительным образом совпало. Интуиция не подвела.
Станислав очень любил нашу заднюю стену сценической коробки. Начиная со спектакля «Отверженные», он часто открывал ее зрителю. Считал, что такая стена – невыкрашенная, аутентичная, живая – она как обозначение вечности. Представьте себе, когда мы впервые говорили с Максимом Обрезковым о сценографии к «Усадьбе», он произнес: «А давайте оставим стену». Дальше мы работали без единого зазора, дружно. Я рассказал свои основные идеи и даже самую сокровенную: «Усадьба Ланиных» – это наш театр с его множеством тайн, радостей и печалей. Тут бушуют такие страсти. Если ночью зайти на сцену, можно это почувствовать. Когда Максим принес эскизы к спектаклю, я утвердил все. Особенно мне понравилось, что фасад усадьбы на сцене повторяет фасад РАМТа. У меня даже появилось чувство, что Станислав присматривает за мной и театром с небес. И одобряет наш выбор.
И конечно, я должен сказать о костюмах Марии Даниловой. Она прекрасный художник, потрясающий! Костюмы, которые она создала к нашему спектаклю, – произведения искусства.
– Спектакль действительно очень красив. И сложен технологически. Может ли он гастролировать с учетом такого количества артистов на сцене, дорогих костюмов и такой масштабной декорации?
– В нашей жизни может случиться что угодно. У нас долго шел спектакль «Берег утопии», он длился 10 часов, если вы помните. Никто и подумать не мог ни о каких гастролях. И вдруг им заинтересовались испанцы. Приезжали с визитом, замеряли сцену. Я тогда думал: ерунда, все сойдет на нет, это же невозможно – такая махина! Но нет, мы съездили в Мадрид, а потом и в Барселону! Так что кто знает, кто знает...
«Мы театр демократического свойства»
– Какие планы у РАМТа на этот сезон?
– Планов огромное количество. Но вроде бы все реально. Марина Брусникина выпустит спектакль «Лето Господне» по роману Ивана Шмелева, который впервые будет поставлен на сцене. Аля Ловянникова репетирует «Томасину» – самую известную повесть-сказку «американского Андерсена» – Пoла Гэлликo. Юрий Печенежский начнет ставить спектакль «Ежик и Медвежонок» по сказкам Сергея Козлова.
В «Черной комнате» мы уже выпустили спектакль для самых юных зрителей «Мой первый бизнес» режиссера Ивана Пачина по замечательной книге Наталии Перевезенцевой и «Остров Сахалин» А. П. Чехова в постановке Олега Долина. На Маленькой сцене Алексей Золотовицкий репетирует «Пустые поезда» Дмитрия Данилова. Это первая постановка нового текста этого знакового современного автора. В театральном дворе поселятся «Разбойники» Шиллера – их поставит выпускник мастерской Юрия Бутусова в ГИТИСе Андрей Хисамиев. Завершилась режиссерская лаборатория «Универсальное детство», по ее итогам один из эскизов войдет в репертуар.
Сам я хочу начать новую работу сразу по двум спектаклям. Первый – по пьесе испанского драматурга Хасинто Бенавенте-и-Мартинеса «Игра интересов», он выйдет на Большой сцене, а второй – по пьесе Роберта Седрика Шериффа «Конец пути», в одном из камерных пространств РАМТа. Это замечательная литература, которая меня трогает. Надеюсь, все сложится.
– Звучит фантастически. Как вообще формируется репертуарная политика театра?
– Если мы говорим о каком-то одном принципе... Этот принцип – интуиция. Режиссеры сами приносят свои идеи. Если они мне откликаются, я с радостью даю добро. Мне важно, чтобы театр открывал новые имена. Если это не миссия, то основная идея точно.
– Как вам кажется, чем РАМТ отличается от других театров?
– Мы молодежный театр. И академический. Два в одном. Для меня это очень важно.
– В РАМТе много активностей для детей и родителей, зрителей разного возраста. К вам в театр приходят детьми, а потом эти выросшие дети приводят своих детей, внуков. Это была осознанная мечта – растить поколения зрителей?
– Мне всегда хотелось, чтобы со сцены зрителей не просто развлекали или поучали, а разговаривали с ними на равных. Только в таких условиях у театра может появиться свой зритель. Мы театр демократического свойства, мы ждем разных зрителей. И нам очень важно, чтобы, придя к нам, они попадали в наше поле, ауру театра-дома. Наверное, это смешное и старомодное понятие, но я другого театра строить не умею. Артисты должны быть семьей. Должно быть ощущение, что мы все друг другу важны и что нам друг с другом интересно. Противоречия, конечно, возникали и будут возникать – это неизбежно. Их нужно принимать как данность, учитывать, но все равно с упорством маньяка строить что-то совместное и общее.
– Есть такое устойчивое выражение в театральной журналистике и критике – «театр Бородина», предполагающее монументальность «большого стиля» и интеллигентную режиссуру. Вы сами как бы охарактеризовали свой режиссерский почерк?
– Мне трудно ответить на этот вопрос. Но точно знаю про себя одно: я никогда бы не взялся ставить что-то, что мне не интересно. Или что нужно поставить для галочки или отчета. Самое главное для меня в театре – сохранение себя. Таким, какой я есть. Лучше, хуже – это уже другой вопрос. Это основополагающий принцип.
– А есть ли, по вашему мнению, формула состоявшегося успешного театра? Если да, то в чем она для вас заключается?
– Театр – это не про успех в общем понимании этого слова. Есть люди, которые нас любят, знают, куда и к кому они приходят. И приходят не единожды. Вот это для меня самое точное значение слова «успех».
– Как вам кажется, в чем сейчас задача театра?
– Живой театр может спасать людей от одиночества. Сейчас все более и более разорваны связи между людьми. Я хорошо помню себя тринадцатилетним мальчиком, двадцатилетним юношей... Все свои открытия и катастрофы, которые переживал тогда, помню. Знаете, мне тогда очень нужна была помощь. И театр мне ее дал. В этом его предназначение и сейчас.

 1 неделя назад
25
1 неделя назад
25

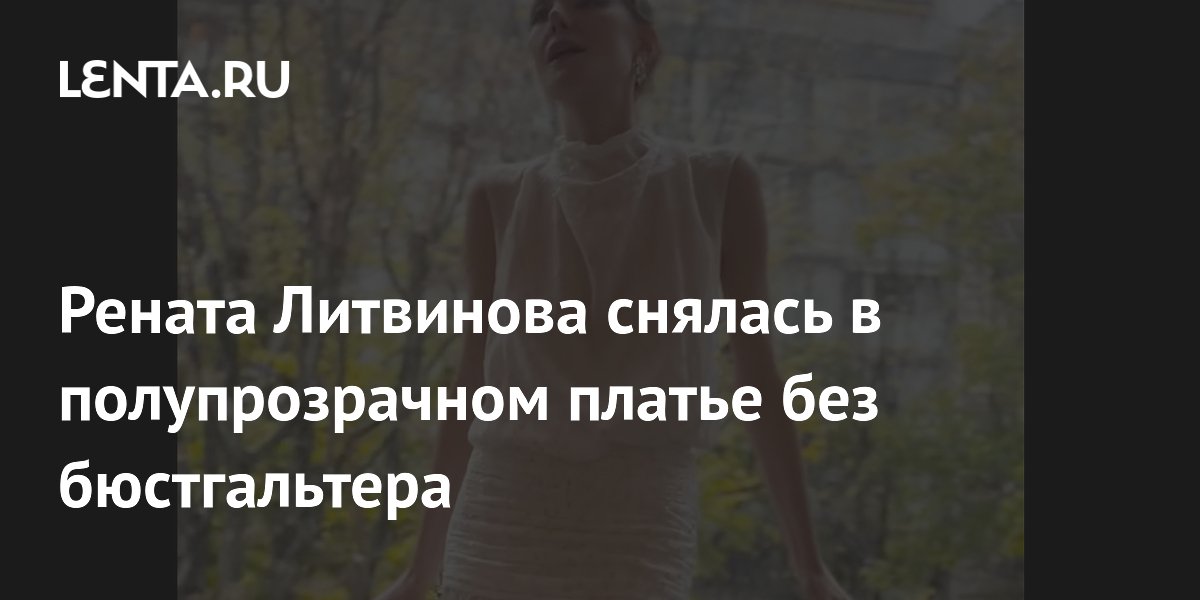











 Russian (RU) ·
Russian (RU) ·