Бывали на Руси и хуже времена, но, пожалуй, не было сложней, запутанней и противоречивей. Вся история Смутного времени соткана из парадоксов, а уж финальная ее глава - вообще один сплошной парадокс.
Всем хорошо известно, например, что в момент избрания Михаила Романова на царство Земским собором, юный государь находился вместе со своей матерью, инокиней Марфой (в миру - Ксения Ивановна Романова, урожденная Шестова) в Костроме, в тамошнем Ипатьевском монастыре, где они укрывались от рыскавших по стране польско-литовских отрядов.
И чуть было не стали жертвами одного из них: спас избранного царя Иван Сусанин, крестьянин села Домнина, родовой вотчины предков Михаила Романова по материнской линии. Будучи схваченный интервентами, он был подвергнут ими жестоким пыткам и погиб, но не выдал убежища государя и его матери.
Не все, правда, историки согласны с этой трактовкой. По мнению, например, такого классика русской историографии, как Сергей Соловьев, Сусанина, скорее всего, замучили не поляки, а "воровские казаки", то есть соотечественники, потому что "поляков не было тогда более в этих местах". Но самое интересное в этой истории другое.
Самое интересное то, где спасались Михаил и Ксения-Марфа от интервентов до того, как оказались в Костроме. До начала ноября 1612 года они находились в занятом поляками Московском Кремле. И вовсе не в качестве пленников. Михаил с мамой гостили у дяди юноши, младшего брата его отца - Ивана Никитича Романова. Дядя же в Кремле не прохлаждался, а работал: входил в состав временного боярского правительства, вошедшего в историю как Семибоярщина.
Именно оно поляков в Москву и Кремль и пригласило. С формально-юридической точки зрения это были не оккупанты, не захватчики, а ограниченный контингент иностранный войск, введенный в столицу по приглашению международно признанного правительства страны для обеспечения его, правительства, безопасности и наведения порядка.
Приглашение на власть
Семибоярщина взяла в свои руки бразды правления после свержения последнего "доромановского" монарха, Василия Шуйского, которое случилось 19 (29) июля 1610 года. Единственным легитимным институтом власти оставалась на тот момент Боярская дума - высший совет при главе государства, состоявший из представителей высшей аристократии.
"Все люди били челом князю Мстиславскому (первый боярин, фактический глава Думы - "МК") с товарищи, чтобы пожаловали, приняли Московское государство, пока нам Бог даст государя", - сообщает соответствующая крестоприводная запись, документ о приведении подданных к присяге новым властям.
Присягавший клялся "слушать бояр и суд их любить, что они кому за службу и за вину приговорят". В свою очередь сами бояре обязывались "всех праведным судом судить, а государя выбрать с нами со всякими людьми, всею землею, сославшись с городами".
Кстати, идея сделать царем Михаила Романова возникла еще тогда: он и князь Василий Голицын считались наиболее "проходными" кандидатами на престол из "своих", из боярской среды. Но еще больше шансов занять трон было у самозванца Лжедмитрия II, войско которого стояло на окраине столицы. Поэтому в тот момент победила другая линия.
"Для бояр и лучших людей, для людей охранительных, имевших что охранять, единственным спасением от вора (Лжедмитрия II. - "МК") и его козаков был Владислав (старший сын польского короля Сигизмунда III. - "МК"), то есть гетман Жолкевский со своим войском, - писал историк Сергей Соловьев. - Главою стороны Лжедимитриевой был Захар Ляпунов, прельщенный громадными обещаниями вора; главою стороны Владиславовой был первый боярин – князь Мстиславский, который объявил, что сам он не хочет быть царем, но не хочет также видеть царем и кого-нибудь из своих братьев бояр, а что должно избрать государя из царского рода. Узнавши, что Захар Ляпунов хочет тайно впустить самозванцево войско в Москву, Мстиславский послал сказать Жолкевскому, чтобы тот шел немедленно под столицу".
Призвание польского принца на царство было, говоря современным политологическим языком, консенсусным решением российской элиты. Дольше всех ему противилась духовная ветвь власти в лице патриарха Гермогена. Но и она в конце концов сдалась. "Если крестится и будет в православной христианской вере, то я вас благословляю", - объявил Гермоген боярам свою позицию относительно воцарения Владислава.
Принятие принцем православия было первым и главным условием его воцарения, выдвинутого боярским правительством. Переговоры на эту тему шли очень долго, в течение по меньшей мере полутора лет, и так в итоге ни к чем и пришли. Однако присягать новому правителю стали, не дожидаясь ни перекрещивания Владислава, ни даже прибытия его в Москву, практически сразу же после его призвания и получения формального согласия польской стороны.
Череда крестоцелований началась 27 августа (6 сентября) 1610 года. На тогдашней околице Москвы, на полпути от польского военного лагеря, разместившего на Хорошевских лугах (нынешний район Москвы Хорошево-Мневники), до центра столицы были поставлены шатры с богато украшенными налоями (столы, использующиеся во время богослужения в православных храмах), где и совершалась церемония.
В первый день королевичу присягнули 10 тысяч жителей Москвы. На другой день к процессу подключилась высшая знать: присяга проходила в Успенском соборе Кремля, в присутствии патриарха Гермогена. Затем наступила очередь провинций: по городам правительством были разосланы грамоты - с приказом присягать Владиславу. И большинство регионов ему подчинились.
Короче говоря, новым правителем страны де-юре стал "государь, царь и великий князь всея Руси Владислав Жигимонтович", представитель шведско-польской династии Ваза. О том, насколько тверды были намерения русской элиты в этом отношении, говорит тот факт, что период номинального царствования Владислава московский и новгородский денежные дворы чеканили серебряные и золотые монеты с его именем.
В свою очередь поляки оказал боярам ответную услугу: выполняя условия заключенного с ними предварительного договора, гетман выступил против Лжедмитрия II и отогнал его от Москвы. При этом русские правительственные войска действовало совместно с польскими. Русской половиной этой армии командовал сам премьер временного правительства, князь Федор Мстиславский, находившийся в подчинении у Станислава Жолкевского.
Убежал самозванец, впрочем, не очень далеко - в Калугу. Под его контролем оставалась значительная часть территории страны, включая, к примеру, подмосковный Серпухов. Да и в самой Москве у "калужского царя" было немало сторонников. В общем, бояре вновь обратились к полякам за помощью.
"Из страха пред простым народом, который не замедлит встать за Лжедимитрия при первом удобном случае, бояре сами предложили Жолкевскому ввести польское войско в Москву, - пишет Сергей Соловьев. - Гетман согласился с радостию и послал расписать квартиры в городе".
Тут, правда, тоже не обошлось без дискуссий: палки в колеса так бодро продвигавшейся интервенции вновь принялся вставлять патриарх, категорически возражавший против входа польских войск в столицу. Главным его доводом было то, что гетман нарушает договора: не добивает самозванца. Однако победителями в споре опять стали бояре. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл дядя будущего царя.
В описании Сергея Соловьева дело было так: "Бояре с своей стороны утверждали, что введение польских войск в Москву необходимо: иначе чернь предаст ее Лжедимитрию; Иван Никитич Романов даже сказал патриарху, что если гетман отойдет от Москвы, то им всем, боярам, придется идти за ним для спасения голов своих, что тогда Москва достанется вору и патриарх будет отвечать за эту беду... Патриарх уступил боярам, уступил и народ".
Москва, спаленная боярами
В ночь с 20 (30) на 21 (31) сентября поляки вступили в Москву. Разместились в Кремле, Китае-городе, Белом городе и Новодевичьем монастыре. Кроме того, для обеспечения коммуникаций с основной частью польского войска, осаждавшего в то время Смоленск, ими были заняты города Можайск, Борисов (нынешнее село Борисово в Можайском районе Московской области), Верея.
Поначалу сосуществование москвичей и поляков было вполне мирным. Конфликты между местными жителями и интервентами разбирал специальный суд, состоявший из равного числа представителей обоих народов. "Суд был беспристрастный и строгий, - отмечал Соловьев. - Так, когда один пьяный поляк выстрелил в икону Богородицы, то суд приговорил его к отсечению рук и сожжению".
Как пишет тот же автор, гетману Жолкевскому удалось поладить даже с патриархом Гермогенон: "Сперва сносился он с ним посредством других, а потом стал ходить к нему сам и приобрел его расположение". Ну а с пригласившими его боярами польский военачальник вообще жил, что называется, душа в душу. Ситуация резко изменилась после смены командующего гарнизоном: в октябре 1610 года Жолкневский покинул Москву, оставив вместо себя на хозяйстве Александра Гонсевского.
"Не прошло месяца, как Гонсевский, так строго наказывавший жолнеров за своеволие, сам поместившись в Москве, начал обращаться своевольнее с государством, чем его подчиненные с москвичами, - сетовал историк Николай Костомаров. - Он не обращал внимания, чего хотят или не хотят бояре, сам судил-рядил, тратил казенные сборы и возбудил недовольство в самых преданных польскому делу боярах.
Михайло Салтыков жаловался канцлеру Сапеге, что польский предводитель не слушает ни его приговора, ни других подобных, взял все дела на себя, вопреки московским обычаям, отстранил от дел и Мстиславского, и других бояр".
Впрочем, с боярской верхушкой, несмотря на ее нытье, у поляков по-прежнему не было никаких проблем. Она, напротив, смягчила условия занятии польским принцем польского престола. Точнее - вообще их сняла. Более того, до коронации Владислава, перспектива которой терялась в туманной дали, бояре согласились признать правителем России его отца, польского короля. И вот тут пути боярского правительства и патриарха окончательно разошлись: такой конформизм Гермоген при всей своей покладистости вынести уже не мог.
"Михайло Глебович Салтыков (боярин, помощник польского коменданта Москвы. - "МК") и Федор Андронов (думный дворянин, занимавшийся государевой казной, то есть фактически министр финансов временного правительства. - "МК") явились к Гермогену и стали говорить, что надобно послать к королю грамоту: в ней просить снова у него сына, но вместе объявить, что предаются вполне на королевскую волю, - сообщает Костомаров. - Гермоген увидел, что бояре ведут дело в угоду Сигизмунду: не Владислава хотят посадить на престол, а Московское государство затеяли отдать польскому королю, во власть чужеземную. И стал он противоречить им. Они ушли от него с досадою".
События эти происходили в декабре 1610 года. Написанная боярами грамота, адресованная московским послам при польском дворе, ушла в итоге из Москвы без подписи патриарха. В документе, пишет Костомаров, "приказывалось послам впустить поляков в Смоленск, велеть смольнянам присягнуть не только на имя королевича, но и короля и самим послам во всем положиться на королевскую волю".
Смоляне, однако, вопреки приказу из Москвы, сдаваться и признавать королевскую власть над собой отказались. Осажденная крепость продержалась еще полгода: пала после предпринятого поляками штурма 3 (13) июня 1611-го. И министров боярского правительства эта новость, полученная ими прямо от короля, отнюдь не расстроила.
"О том же, что вам, великим государям, над непослушниками вашими подал Бог победу и одоленье Богу хвалу воздаем и вас, великих государей, на ваших преславных и прибылых государствах поздравляем", - писали бояре в своем ответном послании Сигизмунду, называя себя его верными подданными.
А незадолго до этого верность бояр королю и его московскому наместнику прошла испытание огнем - в буквальном смысле. В марте 1611 года москвичи подняли антипольское восстание, поддержанное подошедшими к столице отрядами первого народного ополчения. Достаточно малочисленное к тому времени польское войско было загнано восставшими в Кремль и Китай-город, но нашло способ обезопасить себя: интервенты решили сжечь город - ту его часть, которая находилась за пределами обороняемого ими периметра.
И идея получила полное одобрение временного правительства. Более того, бояре приняли горячее - в всех смыслах - участие в этой затее. Первый поджог, насколько известно, устроил боярин Салтыков, подпаливший свой собственный дом. "Поднялся страшный ветер, и к вечеру пламя разлилось по всему Белому городу, начало было гореть и в Китае у поляков, но здесь пожар не распространился: ветер был не с той стороны, - пишет Соловьев. - Ночь была светлая: булавку можно было увидать; набат не переставал гудеть на всех колокольнях".
Но осада и после этого была не снята. На другой день в осажденном Кремле стали держать совет: что делать дальше. Выход, согласно Соловьеву, подсказали бояре: "Бояре говорили: «Хотя вы целый город выпалите, все же будете заперты в стенах: надобно постараться всеми мерами запалить Замоскворечье, около которого нет стен, – там легко вам будет выйти, легко и помощь получить». Следуя этому совету, поляки пошли на Замоскворечье".
И боярский план сработал: после того, как в пепелище превратилась еще и Замоскворечье, восстание пошло на убыль. "Народ вышел в поле в жестокий мороз: в Москве негде было больше жить, - продолжает Соловьев. - В Великий четверг некоторые из москвичей пришли к Гонсевскому бить челом о милости; тот велел им снова целовать крест Владиславу и отдал приказ своим прекратить убийство; покорившимся москвичам велено было иметь особый знак – подпоясываться полотенцами".
Объяснить такое поведение тем, что бояре находились в заложниках у поляков, невозможно. Даже для Стокгольмского синдрома это было чересчур. Но главное - никто бояр не держал. Это был их собственный выбор. Уйти они могли в любой момент. Но уходить было некуда. Как ни парадоксально, но в охваченной смутой стране осажденный Кремль был для бояр и их семейств самым безопасным местом.
Свержение временного правительства
Хотя комфортным это сидение, конечно, назвать сложно. Особенно тяжко пришлось кремлевским сидельцам в последние месяцы перед капитуляцией гарнизона, когда Кремль и Китай-город были плотно блокированы соединенными силами первого и второго ополчений.
Вследствие осады подвоз продовольствия в занятый поляками центр города был полностью прекращен, и голод там принял ужасающие масштабы. "В истории нет подобного примера, писать трудно, что делалось, - писал в своем дневнике современник событий. - Осажденные переели лошадей, собак, кошек, мышей; грызли разваренную кожу с обуви, с гужей, подпруг, ножен, поясов, с пергаментных переплетов книг, — и этого не стало; грызли землю, в бешенстве объедали себе руки, выкапывали из могил гниющие трупы, и съедено было, таким образом, до восьмисот трупов, и от такого рода пищи и от голода смертность увеличивалась".
Каннибализм не ограничивался трупами. "Самопоедание до такой степени разъярило жадные и голодные пасти, что пришлось остерегаться не только неприятеля на стенах, но и в стенах своего брата, - описывал ужасы осады один из польских командиров, полковник Юзеф Будило. - Господин не был уверен в слуге, слуга в господине, от чего не малая часть войска погибла".
Костомаров дополняет эту апокалиптическую картину следующими жуткими подробностями: "Сильный зарезывал и съедал слабого; один съел сына, другой слугу, третий мать; человечье мясо солили в кадках и продавали: голова стоила три злотых, за ноги по костки заплачено было одному гайдуку два злотых... Иные перескакивали через кремлевские стены и убивались или счастливо спускались и отдавались русским. Добродушные кормили их и потом посылали к стенам уговаривать товарищей сдаться. Козаки таких перебежчиков не миловали, мучили их, ругались над ними и изрубливали в куски".
Примечательно, однако, что сидевшие в Кремле бояре и члены их семьи пережили этот кошмар более-менее благополучно: о погибших в ходе осады представителях русской знати исторические источники ничего не сообщают. Хотя совсем уж без эксцессов не обошлось.
Согласно воспоминаниям, оставленным свидетелем осады, киевским мещанином Богданом Балыкой, в один из октябрьских дней 1612 года в кремлевскую резиденцию главы временного правительства Федора Мстиславского, ворвались жолнер, то есть солдат-пехотинец, Воронец и козак Щербина и "почали шарпати, ищучи живности". А когда хозяин стал возмущаться, "некоторый ударил его цеглою (кирпичем. - "МК") у голову", так что временный премьер "мало не умер".
Но расплата за это преступление была молниеносной и жестокой: по распоряжению коменданта польского гарнизона (тогда это был сменивший Гонсевского Николай Струсь) мародеров казнили, а затем, как утверждал Балыка, "на штуки разрубали и изьели".
Тем не менее главную угрозу для членов пропольского русского правительства и его чиновников представляли не обезумевшие от голода польские жолнеры, а те, кто находился по ту сторону кремлевской и китайгородской стен. Когда поляки, осознав безнадежность своего положения, стали склоняться к капитуляции, "Федор Андронов и другие, подобные ему, противились сдаче, - пишет Костомаров, - им лучше было помереть с голоду; они знали и надеялись, что с ними хуже голодной смерти будет, когда свои братья заберут их в руки. Но весь гарнизон зашумел и порывался отворять ворота, хотя бы на смерть".
Опасения не были напрасными. Николай Костомаров так описывал явление высокородных пособников интервентов народу, осаждавшим Кремль ополченцам: "24 октября (1612 года, 3 ноября по григорианскому календарю. - "МК") поляки отворили ворота на Неглинную (Троицкие) и стали выпускать бояр и русских людей. Вперед всех вышел Мстиславский, за ним бояре, составлявшие совет, дворяне и купцы, сидевшие в осаде. Их вид возбуждал сострадание... Козаки опять поднялись и кричали: «Надобно побить (то есть убить. - "МК") этих изменников, а их животы (имущество. - "МК") поделить в войске»".
Но в итоге все обошлось. Во всяком случае - для большей части вышедших из Кремля русских. Земское ополчение, которым руководили Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин, встало в боевой порядок и предотвратило расправу казаков над "кремлевцами". После чего бояре были препровождены в земский стан и, как сообщают летописцы, "с большою честию" были там приняты.
Гостеприимством победителей они пользовались, правда, очень недолго. "Князь Мстиславский с товарищами тотчас после своего освобождения разъехались из Москвы: им неловко было оставаться в ней подле воевод-освободителей", - пишет Соловьев. Это говорит о том, совесть еще не окончательно покинула предавшихся полякам бояр. Но моральными страданиями - да и то, судя по всему, небольшими - они, в общем-то, и отделались.
Пожалуй, единственным из этой компании, ответившим за свой коллаборационизм, был хранитель казны Федор Андронов. Он был арестован и подвергнут пыткам: новые власти очень интересовало, куда делись исчезнувшие из Кремля царские сокровища. А затем его повесили. Но дело тут, похоже, было не только и не столько в содеянном Андроновым, сколько в его неродовитости: возвысился он в годы Смуты, а до хождения во власть был купцом-кожевенников.
Масштабы содеянного, к примеру, Мстиславским были никак не меньшими, а в политическом смысле - несравнимо большими. Как первый боярин и глава временного правительства, ставшего, по сути, правительством национальной измены, именно Мстиславский в первую очередь должен был отвечать за последствия призвания поляков. Однако смена власти никак не отразилась на его положении.
Мстиславский принял деятельное участие в Земском соборе 1613 года, созванном для избрания нового царя. Даже фигурировал в качестве одного из наиболее перспективных кандидатов на престол: по знатности равных ему не было. Он же - в силу той же знатности - фактически был председателем "царьизбиркома". В длинном списке подписантов грамоты об избрании Михаила Романова на царство Федор Мстиславский идет первым от бояр.
При новом государе у него тоже все было хорошо. Мстиславский вновь стал "спикером" Боярской думы - первым боярином. Столь же благополучно сложились судьбы прочих бояр, вышедших из Кремля после победы народного ополчения. Никто не попал в опалу.
Скажем, Иван Воротынский был долгое время первым воеводой в Казани, в отсутствие царя управлял Москвой. Борис Лыков-Оболенский управлял при Михаиле (в разное время) Разбойным, Монастырским, Ямским, Сибирским приказами и приказом Казанского дворца. Ну, а об Иване Никитиче Романове и говорить нечего: важное место при дворе племянника было гарантировано в силу родственных связей.
Почему царь Михаил благоволил коллаборантам, легко понять: сам был одним из них. Да, попал в эту среду в силу, так сказать, семейных обстоятельств. Но напомним, что будущий царь был тогда уже далеко не младенец. На момент окончания осады ему было 16 полных лет, то есть он уже вполне мог отвечать и за свои действия, и за свое бездействие.
Куда большая загадка, почему к изменникам-боярам столь ласково отнеслись вожди народного ополчения: не вздернули, как они того заслуживали, на виселицу, а приняли "с большою честию". Единственно возможное объяснение - "ополченцы" не хотели усугублять кризис власти, и без того утративший всякие берега.
Формально-юридически их действия были не спасением государства, а вооруженным мятежом против власти, хотя и спутавшейся с иноземцами, но вполне законной. Но благословение переворота со стороны руководителей низложенного временного правительства успешно разрешило это противоречие. И бояре, и мятежники сделали вид, что правительство не свергли, а "освободили", то есть - что то был никакой не переворот, а восстановление прежнего державного порядка.
Читайте также: Неизвестный царь: кем был человек, вошедший в историю как Лжедмитрий I

 1 неделя назад
27
1 неделя назад
27




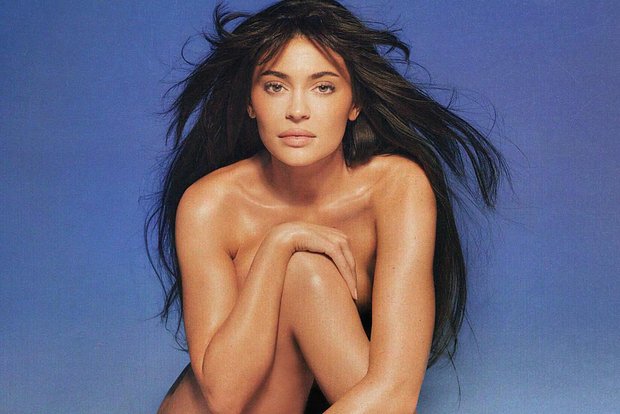









 Russian (RU) ·
Russian (RU) ·